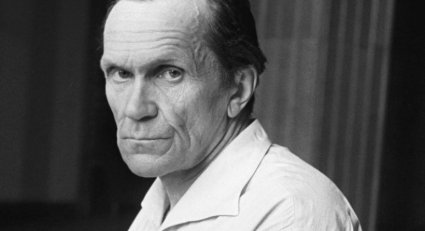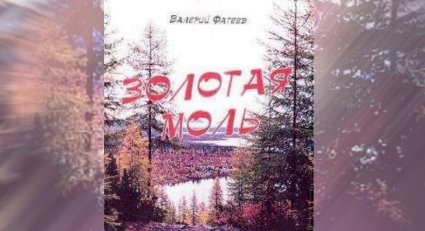Детали его пребывания в колымской неволе я узнал из документального повествования его сына Георгия - “Воспамятования об отцах” (журнал “Дружба народов”, № 7, 1989 г.), и мне вспомнилось, что в коллекции магаданского филателиста А. Батаршина я видел открытку Мирры Брук, написанную по адресу: “Адыгалах, Дорлаг...” Тому предшествовало краткое письмо Михаила Белова из Нексикана, посланное в Москву 20 марта 1946 года. Он познакомился с Гачевым на прииске “Разведчик”; в течение двух лет общения на родном болгарском языке они, видимо, сдружились, помогали друг другу, следя за перемещениями по колымским маршрутам.
Гачев работал, оказывается, на руднике “Хета”, на прииске “Золотистый”, оттуда его направили в центральную агитбригаду Оротукана, уже потом - в Нексикан . Именно от М. Белова семья Гачева узнала о смерти Дмитрия Ивановича. Он умер в возрасте 43 лет.
Открытку, которую я держу перед собой, Мирра Семеновна отправила в надежде узнать подробности и убедиться в подлинности сообщения.
Их сын Георгий, которому отец посылал письма-программы воспитания и образования, собрал немало свидетельств лагерной жизни Дмитрия Ивановича. Так, в 1963 году он записал в Софии воспоминания инженера Николая Яблина, в течение двадцати лет имевшего встречи с Гачевым в болгарской столице, в Париже, Москве и на Колыме в 1943-44 годах.
“В то время я был “зэк” на руднике “Чай-Урья”... Был летний день. В полукилометре от лагеря работали мы на золотоносном забое. Наша работа состояла в том, чтобы выкопать и отвезти на тачке землю к бункеру на расстояние 50-80 метров. Норма на день была 5 кубических метров на двоих. На время обеденного отдыха мы отправлялись к возвышению, отстоящему примерно на сто метров от забоя: там находилась наша кухня и столовая. То были навесы под забитыми в землю двухметровыми столбами, покрытые сверху досками и просмоленной бумагой (от дождя), открытые отовсюду. Под навесами имелись “столы” - длинные неструганые двойные четырехметровые доски, опирающиеся тоже на столбы, а более низкие доски между ними служили скамейками.
Мы, несколько сот работяг, двинулись за едой. Получил я миску с баландой и кашу (хлеб мы носили с собой, так как раздавали его по утрам - на кого 400, на кого 600 грамм ежедневно, согласно трудовым успехам каждого), и едва я сел, как громко грянула маршеобразная музыка. Я оглянулся по сторонам. Неподалеку играл оркестр, и в человеке рядом с барабанщиком я узнал Димитрия Гачева, который исполнял на флейте свою партию “.
В.А. Вайсварт, латыш, бывший художник культбригады, работавший с Гачевым с лета 1943 по лето 1945 года, вспоминал, как он много читал в Нексикане и Оротукане: “ А читать-то как в бараке? Темно! Лампочка - в 25 свечей. Так он ставил табурет на табурет, взбирался под свет и так читал ночами...”
Когда советские войска освободили Болгарию и Венгрию, в 1944 году из лагерей стали возвращать заключенных из числа этих граждан. Гачев узнал, что с рудника “Хета” выехал на свободу в том году известный венгерский писатель-коммунист Антал Гидаш не без помощи коминтерновцев. Разумееется, и Гачев ожидал для себя перемен, так как ему уже сообщили о ходатайстве Георгия Димитрова.
Однако после того как с многих вышедших на волю стали брать подписку о неразглашении всего того, что они пережили в тюрьмах и лагерях, то Гачев совершил “красивый, но донкихотский поступок”, заявив, что, как честный коммунист, считает своим долгом по прибытии в Москву, а затем и в Болгарии сообщить партии о том, что здесь творится. Это-то и было причиной второго обвинения Гачева.
По приговору Военного трибунала войск НКВД при “Дальстрое” от 22-26 ноября 1945 года его осудили по статьям 58-10 ч.2. и 58-11 УК РСФСР сроком на 10 лет и с поражением в правах сроком на пять лет, с конфискацией имущества. Хотя какое там было имущество?
От такого удара судьбы трудно было устоять.
Георгий Гачев записал воспоминания свидетеля второго “дела” отца. Матвей Яковлевич Ребэ работал вольнонаемным после срока заключения на Колыме. В августе 1945 года его привезли с лесозаготовок в Нексикан, где допрашивали о Гачеве: “Что читает, какие разговоры ведет?”
Тогда-то Ребэ увидел список из 9 человек, обвиненных по процессу 22-26 ноября 1945 года, в который вошли: Стерн, Гачев, Ольсевич , Гусев.
Стерн (Манфред Штерн) в Нексикане работал фельдшером, а в Испании в 1936 году его знали как генерала Клебера, героя-интербригадовца. Его судьбой интересуется магаданский писатель А. Бирюков и, надо надеяться, что его повествование будет открытием для читателей.
“Липовое” дело во главе со Стерном должно было показать активность органов НКВД на Колыме накануне открытия военных действий против Японии. Вот и стали Гачев и другие жертвами очередного произвола. Месяц их всех держали на прииске имени Чкалова, затем в конце декабря 1945 года Гачева привезли в Адыгалах на дорожные работы.
Дмитрий Иванович знал, что его первый срок заключения оканчивается в феврале 1946 года, ждал поступления ходатайства об освобождении от ЦК Болгарской Компартии, в частности, от Димитрова и Коларова. Хирург К.Стоянов, вернувшись с Колымы в ноябре 1945 года в Москву, заверил родных Гачева, что следующим будет Дмитрий Иванович. Тогда ему повезло. Коста Стоянов стал генералом, главным хирургом Болгарской народной армии, а Гачев, как утверждает свидетельство о смерти 11 - А № 907476, умер 17 декабря 1945 года в Москве от порока сердца. В то время как свидетели указывали: смерть Д.И. Гачева произошла на Адыгалахе (ныне в Сусуманском районе) в конце февраля-начале марта 1946 года.
На почтовой открытке, написанной М.С. Брук 26 июня 1946 года на имя начальника Дорлага Иванова, есть краткая запись: “Умер 2 января...” Видимо, строки письма вызвали сочувствие, и в ответ на просьбу: “Он был в культбригаде в Нексикане и писал мне все время, и вдруг оборвалась переписка, я не имела никаких известий около 9 месяцев. Умоляю Вас, сообщите мне всю правду об участи моего мужа. Жив ли он, и что когда случилось. Прошу, по-человечески откликнитесь, не откажите все сообщить” - неизвестный дал этот ответ. Только адресату не сообщили точную дату смерти Д.М. Гачева. Открытка до 90-х годов хранилась в архиве УВД Магаданской области.
Фальсифицированное свидетельство о смерти Гачева в 1945 году стало основанием для последующей записи и на его мемориальной таблице в городе Брацигово.
Только через десять лет семья Гачева получит выписку из определения военного трибунала Дальневосточного военного округа о том, что “приговор Военного трибунала войск НКВД при “Дальстрое” от 22-26 ноября 1945 года в отношении Гачева-Грачева (?) Дмитрия Ивановича и определение военного трибунала войск НКВД Хабаровского округа от 11 января 1946 года в отношении Гачева-Грачева отменить, а дело производством прекратить за недоказанностью предъявленного обвинения”.
В том же 1956 году было отменено и Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 14 мая 1938 года за отсутствием в действиях Д.И. Гачева состава преступления.
Бывший работник культбригады Н.П. Смирнов прислал Г.Д. Гачеву свои “Колымские воспоминания”, в которых отмечал: “Он, работая в забое, в этих “живых могилах”, находил в себе силу воли писать такие письма, в которых больше всего боялся огорчить вас всех, хоть намеком на то, что живет настоящей каторжной жизнью”.
“...В порядке просвещения нашего брата заключенного, очень часто по вечерам, да и просто в свободное время с большой охотой читал нам - да, да, именно читал, как профессор, - лекции на всевозможные темы по истории музыки, по истории государств, по истории литературы и истории искусств, которые мы все слушали с большим удовольствием”.
Не случайно на судебном процессе, ссылаясь на заступничество из Болгарии, Дмитрию Гачеву кричали судьи: “В вас хотели видеть болгарского Луначарского? Не бывать этому!”
Куда делись эти пророки? Имя Дмитрия Гачева останется навечно в памяти народов Болгарии и России. Будут помнить его и на Колыме, как и многих иностранцев ГУЛАГа, безвинно страдавших в неволе.
Давид РАЙЗМАН ("Регион")



За основу герба города Магадана принят герб, утверждённый решением IX сессии XI созыва Магаданского городского Совета депутатов трудящихся от 18 июня 1968 года, автор проекта герба - художник Мерзлюк Н.К.
За основу герба города Магадана принят герб, утверждённый решением IX сессии XI созыва Магаданского городского Совета депутатов трудящихся от 18 июня 1968 года, автор проекта герба - художник Мерзлюк Н.К.
Музыкальные произведения разных лет, посвященные Магадану и колыме
Музыкальные произведения разных лет, посвященные Магадану и колыме
Магадан и Колыма
Сразу же после образования Дальстроя его руководство во главе с первым директором Э. П. Берзиным выдвинуло задачу обеспечения населения Колымы своими собственными продуктами питания
Сразу же после образования Дальстроя его руководство во главе с первым директором Э. П. Берзиным выдвинуло задачу обеспечения населения Колымы своими собственными продуктами питания
Прочитав эту небольшую книгу, вы откроете для себя Колыму с неожиданной стороны. Вы узнаете, кто на самом деле нашел первое колымское золото, разгадаете тайну вице-президента США Генри Уоллеса, прочитаете о том, как зэки плавали на барже до Аляски...
Прочитав эту небольшую книгу, вы откроете для себя Колыму с неожиданной стороны. Вы узнаете, кто на самом деле нашел первое колымское золото, разгадаете тайну вице-президента США Генри Уоллеса, прочитаете о том, как зэки плавали на барже до Аляски...
Сборник очерков, рассказов и публикаций из истории Магадана
Сборник очерков, рассказов и публикаций из истории Магадана
-
Носов Сергей Константинович.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 28 мая 2018 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области. 9 сентября 2018 года избран губернатором Магаданской области. -
Трутнев Юрий Петрович. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента.
-
В 1943 году ввели Первомайское месторождение угля, основными потребителями которого были близлежащие поселки Атка, Черное озеро, обогатительная фабрика и другие.
-
Среди колымчан, награжденных за боевые подвиги орденом Красного Знамени, мы видим Героев Советского Союза В. И. Еронько, А. Я. Липунова, А. А. Шyмейкo, А. В. Горбатова, бывшего шофера Дальстроя И. Ф. Бойко
-
Еще сейчас многие на «материке» представляют Магадан городом-лагерем с вышками и колючей проволокой. Из-за этого теперь модно называть Сталина отцом-основателем Магадана.
-
Трутнев Юрий Петрович. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента.
-
Богата история рудника имени Матросова. Золотодобывающее предприятие всегда было флагманом Тенькинского района.
-
Всего в Магаданской области государственным балансом учтены запасы общераспространенных полезных ископаемых по 132 месторождениям
-
Информационный интернет-ресурс, посвященный горнодобывающей промышленности на Колыме
Наш край
Колыма
Нормативка
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА (ОБЪЕКТАМИ ОХОТЫ)
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2009 г. N 269-па...
О РАЗРАБОТКЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2012 ГОДЫ"
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2009 г. N 516-па...
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬ"
- ПРИКАЗ от 6 августа 2012 г. N 37-2/э...
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗЫВОМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2011 ГОДА
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 2011 г. N 30-п...
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- Принят Магаданской областной Думой 29 декабря...
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН 1993 ГОДА РОЖДЕНИЯ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
- РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 декабря 2009 г. N 591-р...
О РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2011 г. N 872-па...
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 ГОДЫ"
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 января 2009 г. N 2-па...